Залесский Лев Борисович: Мой путь
Часть 9
Поехали. Это переправа на теплоходике «Москвич» на левую сторону Волги плюс 10 км автобусом до завода. Там без особых препятствий нам оформили пропуска и даже поселили в общежитие, потому что заготовительный цех, куда нас определили, работал по непрерывному циклу, а люди – посменно, в том числе до ночи и ночью.
Огромный стекольный завод строился одновременно с автозаводом, ибо резко возрастала в Горьком потребность и в строительном (оконном), и в автомобильном стекле. Американцы нашли залежи пригодного песка здесь, на Моховых горах, где и привязали завод. Годного песка хватило на три года, и его начали возить баржами и поездами издалека (в то время – из Люберец), но его надо было отмывать от примесей – флотировать. Вот эту далеко не интеллектуальную работу мы с Роксаной и делали. Как с этим справлялась она – за пределами моего понимания, как и многое другое, касающееся женщин.
Представьте себе котёл ёмкостью в один кубометр, у которого дно с помощью рычага закрывается и открывается. Так же ручкой можно открыть заслонку на свисающей над ним трубе (при этом дно закрыто), откуда в котёл устремляется жидкая пульпа – песок с моюще-растворяющей жидкостью. Заполнив до определённого уровня котёл – он называется «барабан» и имеет водопроницаемую боковую стенку – мы запускали его во вращение, при этом вода с ненужными примесями отбрасывалась на периферию и сливалась, а влажный песок прижимался к стенке. Далее начиналась для нас активная фаза. Открывалось дно. Специальной лопатой-скребком надо было отделить песок от стенок бешено вращающегося барабана. И вновь наполнить, отцентрифугировать и спустить. И так всю смену.
Но зато мы знали и видели все стадии получения всех видов продукции: стекла, сталинита, триплекса и даже рюмок.
Из воспоминаний Роксаны: Помог нам пройти практику начальник цеха по фамилии Гренаус – он был дядей одной моей приятельницы Лары Гренаус. Невысокий, усталый он поехал в деканат и разговаривал с деканом – декан был его знакомым – и поручился за нас. Как он сказал, помогал нам как соплеменникам.
К началу учебного года никаких признаков грозы в институте не было.
Пошли спецдисциплины. Прекрасно, быстро и сложно рисовал оборудование для производства цемента Кульметев; остроумно, хорошим языком рассказывал о стекле Соколенко; очень просто и, даже, панибратски всё о керамике рассказывал Санин. Чертежи, лабораторные работы, лабораторные установки.
Между тем туристская деятельность продолжалась. С одной стороны, меня делегировали в Областной совет по туризму – штатную структуру, координировавшую и плановый (по путёвкам) и самодеятельный туризм.
С другой, у меня образовалась в институте группа, мы ходили в походы в выходные и праздники. В зимние каникулы на основе этой группы сформировалась агитбригада. На лыжах, с рюкзаками, большей частью по снежной целине мы прошли 150 км по северным районам области (Семёновскому и Ковернинскому, село Сёмино) с лекциями и концертами. Зима была довольно суровая и снежная. Навестили пожилого мастера хохломской росписи Ф.А. Бедина, получили в качестве сувениров белые ложки-заготовки. Приходили в населённый пункт, где есть клуб или школа с актовым залом. Я рассказывал о международном положении, а в художественной части читал Маяковского. Самое интересное начиналось, когда расходились зрители.
После каникул была ещё одна производственная практика. Нас двоих с Борисом Фондымакиным направили на Дулёвский фарфоровый завод. Фарфор – тоже керамика и тоже силикаты. Пребывание там носило познавательный характер. Надо было только понять технологический процесс и на этой основе сформулировать предложения по его совершенствованию. А Бориса тянуло на танцы. За компанию и я с ним несколько раз выбирался в местный ДК. Интересно, что его «симпатия» Таня узнала меня через 30 лет совсем в другом городе Подмосковья, где я был в командировке уже в годы работы в ГНИПИ.
Лето после IV курса складывалось из пяти эпопей.
В июне отправились в военные лагеря. Недалеко – на Гороховецкий полигон во Владимирской области. Жили в палатках на 10 человек. Нас одели в солдатскую форму, включая кирзовые сапоги. Подъём по сигналу трубы, быстрое одевание, зарядка, туалет, завтрак и сразу полевые занятия. Даже интересно.
Была историческая эпоха «народной стройки». Организации, в которой работала мама, тоже выделили участок на «Бекетовке» - на южной окраине города росла улица Бекетова и её боковые отростки. Сотрудники, которые могли претендовать на жильё, должны были отработать на строительстве дома определённое, пропорционально ожидаемой жилой площади, число человеко-дней. Маме разрешили участвовать, значит, мне надо было работать. Выходные я делил между походами и стройкой. Но одно переливалось в другое. Я имею в виду, что «сопоходники» (Юра Шаповалов, Валя Шишкина, Юра Мезенев и др.) выходили со мной на стройку, чтобы быстрее отработать мою норму человеко-дней.
Обязательной была вторая производственная практика. Мне выпало ехать в Семилуки – городок в 11 км от Воронежа. Работали в 3 смены на кирпичном заводе. Причём мне достался участок огнеупоров, где делали динасовый кирпич для стекловаренных и металлургических печей. Работа простая, но тяжёлая. Надо было наполнить короб в виде совка точно 32-мя килограммами сырой массы и высыпать в форму. Опытный штатный прессовщик выполнял прессование, и полученный сырой кирпич уезжал на транспортёре к печи.
И третья эпопея – велосипедный поход от Львова, по Закарпатью до Ясиня с последующим отдыхом в Одессе. Опять были Лев Артцвенко, его подруга Наташа, Аля Остроушко, всего 8 человек. Мы списались предварительно с Одесским Политехом, и те согласились поселить нас на неделю в своём общежитии. Велосипеды из Горького до Львова и из Ясиня в Горький ехали отдельно багажом. Здесь было много интересного, но расскажу о трёх эпизодах.
Первый касается той же Роксаны – хрупкой, но чрезвычайно целеустремлённой девушки. На момент, когда родилась идея велопохода, Роксана к велосипеду в жизни не прикасалась. Но твёрдо решила, что научится ездить и проедет 500 км. Началось с того, что папа Борис Маркович достал (для того времени наиболее точный термин) ей заграничный дамский велосипед – красивый, но мало похожий на спортивный. Впрочем, спортивного не было ни у кого. Второй этап – овладение ездой. Семья жила в центре города, плотно застроенном и с оживлённым движением. Как только сошёл снег, Роксана с папой начали обучение. Немолодой небольшого роста папочка старался удержать велосипед с дочерью в вертикальном положении, труся за велосипедом по тротуарам. Надо отдать должное всем троим (включая велосипед) – они остались живы, и конечная цель в тротуарном варианте была достигнута. Несколько иначе сложилась походная практика. Ехать с рюкзаком за спиной по обочине булыжного шоссе непросто. А если с горы? Может случиться авария. И она случилась. Не справившись с управлением в этой ситуации, Роксана влетела в столб. Наибольшие повреждения получил велосипед. И если бы не руки и инструменты уникального ремонтника группы Коли Батракова, для одного участника поход на этом закончился бы.
А на деле он продолжался. Прекрасные воспоминания оставили Ужгород, Берегово, Виноградов. Особой страницей вписывается в воспоминания о Закарпатье Мужиевский винзавод.
Ещё собираясь на Приполярный Урал, я написал на бланке института письмо примерно такого содержания:
«Руководителям всех организаций по пути следования группы. [название, руководитель, цель и т.п.] Прошу оказывать всё зависящее от вас содействие…»
Установив, что оно хорошо срабатывает, я и здесь имел такое письмо и предъявил его в заводоуправлении винзавода. Нам дали прекрасного сопровождающего и повели по подвалам-тоннелям. Кроме подробного рассказа в программу экскурсии входила дегустация десятков видов сокровищ, хранящихся в подвалах в огромных дубовых бочках. Вышли мы оттуда не в полной спортивной форме. О том, чтобы сесть на велосипеды, не могло быть и речи. Отойдя на полкилометра, мы присели в тени груши, поели её спелых плодов и немного пришли в себя. День клонился к вечеру, предстояло проехать не менее 40 км, да ещё найти в стороне от дороги развалины довоенного санатория с выходами минеральных вод. Была подана обычная команда «По коням», но встали не все. Коля уснул так крепко, что его пришлось трясти. В итоге он пробормотал: «Езжайте, я догоню». Он был на самом деле сильнее и опытнее нас всех. Он в одиночку ездил в Крым и на Кавказ. И мы уехали.
До точки, где надо было сворачивать с шоссе для поиска санатория, он нас не догнал, а уже темнело, и я оставил в этом месте дежурного. Когда мы уже разбили лагерь и сварили ужин, я пошёл к нашему дежурному. Мы вспомнили, что незадолго до нашего поворота мы проезжали калитку в заборе, отгораживающем шоссе от погранзоны. Мы нашли эту калитку, нашли около неё звонок, к нам вышел офицер, мы рассказали ему ситуацию, на что он очень спокойно сказал: «Сейчас узнаем». Около калитки с внутренней стороны оказалась будочка с телефоном, и через минуту нам было сказано, что Коля едет, что он в 11 км от нас. Действительно, через полчаса проблема разрешилась.
Героем третьей истории был талантливый и обаятельный парень Серёжа Сапфиров (позднее – доктор наук, завкафедрой). Так сложились обстоятельства, что мы с Серёжей не успевали из военных лагерей к началу похода во Львов и приехали в Ужгород вечером, раньше группы. Решили проверить железнодорожный состав, стоявший в тупике на станции и явно давно не используемый. Одно окно вагона поддалось, после чего открыть дверь и внести рюкзаки не было проблем. Вагон оказался купейным, с мягкими диванами и даже водой в кранах. Если не считать многолетней пыли на всём – идеальное место ночлега. Пока ужинали, стемнело. Из парка, находившегося рядом с вокзалом, доносилась танцевальная музыка. Серёжа загорелся желанием пойти на танцы. Я этой идеи не разделял, он пошёл один. Вскоре начался дождь, перешедший в тропический ливень. Музыка стихла, более того, погасли фонари в парке. Серёжа не возвращался. И хотя абсолютно, безоглядно ветренным я его не считал, единственное объяснение, которое приходило мне в голову, сводилось к головокружительному знакомству с местной дивой. Ночью мне не спалось, но придумать алгоритм действий тоже не удавалось. Когда приехала группа, мы с помощью милиции и медицины нашли Серёжу – в больнице и в весьма плачевном состоянии. Оказалось, что когда начался ливень и ураганный ветер, он бросился к станции. В этот момент погас свет, он налетел на оборванный электрический провод и потерял сознание. Очнулся в больнице с множеством ожогов и высокой температурой. Мы провели в Ужгороде ещё сутки и, когда врачи уверили нас, что поднимут его на ноги, оставили ему документы и деньги для возвращения в Горький, отправили туда же его велосипед и тронулись в путь. Наиболее симпатизирующая ему красавица Аля хотела остаться с ним, но он этому воспротивился.
Дня через три, поднимаясь (ногами) в гору к одному из перегибов шоссе, мы обнаружили там Серёжу. Он сбежал из больницы, как только смог встать, и на попутных машинах весь в бинтах обогнал нас. Впредь мы так и взаимодействовали: назначали место ночлега, он туда доезжал на попутном транспорте, и ужинали, и ночевали, и завтракали мы вместе. Когда закончилась велосипедная часть, в поезде он лежал с высокой температурой, так что по приезде в Одессу мы вызвали «Скорую помощь» на вокзал. В больницу я поехал с ним, группа ждала на вокзале. У закрытых ворот больницы машина остановилась, водитель пошёл решать оргвопросы, Серёжа тихо поднялся, тихо открыл заднюю дверь и, позвав меня, спустился на землю. Крадучись, мы удалились. Только теперь стало ясно, почему он не вылежал нужное время в Ужгороде и не вернулся в Горький. Здесь, в Одессе, причём (кто режиссёр событий?) недалеко от этой больницы живёт его отец, давно расставшийся с семьёй в Горьком, имеющий здесь, в домике на зелёной окраине, новую семью и больших детей.
Из воспоминаний Роксаны: Помнишь ли ты, как мы попали в ураган? Уже темнело, но мы никак не могли выбрать стоянку. Вдруг послышался гул, будто летит эскадрилья самолетов. Сверкнула молния, и в ее свете я увидела лес, почти лежащий на земле. Мы соскочили с велосипедов, прыгнули в кювет, крепко сцепились, и вихрь ударил в нас и пронесся дальше. Тьма, дождь ... Вдруг открывается калитка, выходит человек и приглашает нас переночевать у него на сеновале. По-моему мы не спали всю ночь. После бури дождь быстро кончился, небо засияло такими крупными, умытыми звездами! Настроение было прекрасное, Утром хозяин принес нам обломившуюся ветку груши, усыпанную плодами, и это был наш завтрак. А помнишь, как кто-то из ребят не мог удержаться и набил рюкзак фруктами так, что не выдержало седло и отломилось. А как хотели подняться на Говерлу!
Наше пребывание в Одессе было великолепным. Удовольствий не досталось только Серёже и Але, которая сидела при нём в общежитии. Чтобы закончить рассказ о Сергее, дополню его несколькими штрихами. В Политехе это был известный, яркий учёный. Женат он был в это время на Наташе Шапошниковой (это её девичья фамилия), работавшей в моём НИИ. Расстался с Наташей, переехал в Москву. Там тоже был успешен. Его уже нет в живых.
К сожалению, сведения о судьбе Льва Артцвенко кончаются так же. Вот письмо его внука в декабре 2013:
Maxim Arttsvenko
16 декабря г. 23:43
Здравствуйте, Лев. Лев Николаевич - мой дедушка. К сожалению, его уже нет в живых. Он умер в возрасте 54 лет в 1989 году. Знаю, что он работал инженером-конструктором в г. Дзержинске (Нижегородской области). Лауреат государственной премии. Был женат. Жена – Наталья Николаевна еще жива, живет в деревне Богоявление Нижегородской области. Имел дочь и сына. Я обязательно спрошу у его дочери про фотографии. Спасибо за интерес к моему деду.
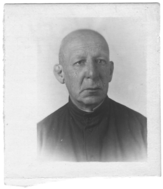
Б.И. Хенох. Фото на документ. 1950 год.Поскольку зимой я занимался в аэроклубе (в старинном здании Нижегородской ярмарки) парашютной подготовкой, мечтал летом прыгнуть. Удалось в последние дни августа реализовать мечту. Самолёты стояли в то время там, где сейчас завод «Термаль». А прыгали на аэродром Богородска. Получил значок. До этого у меня были разряды по стрельбе и туризму.
В моё отсутствие дома произошло важное событие, о котором мама рассказала мимоходом и очень лаконично, а более подробно обо всей трагедии я узнал позже в Липецке от Геры - племянницы отца.
Оказывается, совершенно неожиданно к нам на Ижорскую нагрянул отец. Переписка с ним, хоть и вяло, продолжалась, и тональность её не была бархатной. Как он доехал и как явился – своими ногами или с чьей-то помощью, осталось неизвестным, но мама не приняла его и по моральным, и по физическим соображениям – в одной небольшой комнате без удобств разместить беспомощного человека после 17-летней фактической разлуки – действительно, наверно, было невозможно. Факт таков: мама отправила его к его сестре Доре, жившей в Липецке.
ШАГ В СТОРОНУ и в будущее. Я познакомился с Герой спустя 16 лет после этих событий, когда Доры уже не было в живых, а мы втроём (с женой и сыном) поехали в отпуск на своём «Запорожце» в южном направлении и заехали в Липецк. В письмах мы договорились, что муж Геры встретит нас на своей машине в определённой точке въезда в Липецк, чтобы мы не блуждали по городу. Мы были очень тепло, по-родственному приняты, и я много нового узнал о происхождении и последнем периоде жизни отца. Жаль, что тогда не зафиксировал эту информацию, и теперь от неё мало что осталось. А Геры уже нет. Но последние страницы его биографии вырисовываются примерно так.
Возможно, между ним и мамой состоялся обмен письмами на тему его переезда к нам, в Горький. Об этом говорит найденный в маминых бумагах «Личный листок по учету кадров», в котором его рукой (хорошим, разборчивым почерком и очень грамотно) написано, что с 1953 года он работает корректором во 2-й типографии Профиздата, т.е. это написано еще до выхода на пенсию. Очевидно, к этому же времени относится его письмо, в котором говорится, что противоречия и несходство характеров непреодолимы, и, если он и переедет к нам, жить будет отдельно. Переезд и воссоединение не состоялись.
Выйдя на пенсию, он решился осуществить мечту всей жизни – пожить у тёплого моря.
Местом жизни он выбрал Сухуми. Однако с источником существования вышла осечка: документы на пенсию туда не поступили. На жалкие накопления он снял угол, а вот на питание денег не было. Каким образом он несколько месяцев перебивался, непонятно, но итогом стало полное расстройство желудка и дистрофия.
К этому времени относится письмо из Сухуми от Т.Л. Погосовой, старшей медсестры инфекционной больницы, к которой попало письмо мамы отцу. Вот только одна фраза: «Положение у него кошмарное, с психикой у него не все в порядке».
Есть его письмо маме от 14.05.58:
Сара! Я нахожусь в г. Сухуми. Лежал в больнице. Сейчас нахожусь здесь же и проживаю в гостинице «Рица». Я очень ослаб, прошу выехать за мной и найдешь в гостинице. Жду и еще раз жду. Борис.
Именно в таком состоянии он добрался сначала до нас в августе 1958, потом до сестры Доры в Липецке, которая тоже не взяла на себя такую ношу и сплавила его в дом престарелых в Задонске Липецкой области (Скит Кошарского с/с Задонского района). В Свидетельстве о смерти от 21.08.59 сказано, что он умер 09.12.58 от сердечной недостаточности.
Ничего этого в 1958 году я не знал. Мы поехали в этот дом престарелых (в 1974), но максимум, чего я там добился, это увидеть «место за свинарником, где закапывают».
- От автора
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 3
- Часть 4
- Часть 5
- Часть 6
- Часть 7
- Часть 8
- Часть 9
- Часть 10
- Часть 11
- Часть 12
- Часть 13
- Часть 14
- Часть 15
- Часть 16
- Часть 17
- Часть 18
- Часть 19
- Часть 20
- Часть 21
- Часть 22
- Часть 23
- Часть 24
- Часть 25
- Часть 26
- Часть 27
- Благодарность
- Фотографии