Авсиян Лев Осипович: Про мою маму
Жизнь в Евпатории, война, эвакуация в Узбекистан, возвращение в Крым, моё рождение
Мамуля рассказывала, что в Евпатории местные жители удивлялись, когда она, 3-летняя, разговаривала с моим дядей Морой, 5-летним, по-еврейски (аф-идиш): “Смотри: какие маленькие, а уже разговаривают по-еврейски!” Липовец был “местечком” с такой плотностью еврейского населения, что первым языком маленьких детей был как раз идиш (к нему, в этой связи, применяют эпитет “мамэ-лошн”, то есть, “язык мамы”).
Дети быстро вливались в свойственную Евпатории языковую среду и скоро стали говорить по-русски легко и естественно. Я при этом не был, поэтому много подробностей не знаю. Знаю только, со слов моей бабушки, что переезд из Украины в Крым был связан с тем, что здесь была много более благоприятная для жизни обстановка. Там на Украине – банды, всякие петлюры, еврейские погромы. Дедушка, будучи активистом местной самообороны, чуть что – хватал винтовку и бежал отстреливаться от наседавших банд, – неспокойная жизнь, не располагала к мирному труду. А в Евпаторию дедушка однажды приехал, чтобы закупить материал и бараньи шкурки на шапки и воротники (шить которые и было его профессией). И очень ему понравилось, что здесь люди разных национальностей жили друг с другом без напряжения. Опять же – море, тепло, фрукты. Вот, дедушку и захватила идея перевезти семью в Евпаторию. Сначала они снимали в разных местах квартиры, дедушка начал работать в швейной артели, но скоро разочаровался в коллективных формах труда (видимо, коррупция с воровством и тогда процветали), и скоро стал трудиться сам по себе. Таким способом он зарабатывал столько, что хватило купить дом на улице Пионерской, 1, вырастить детей, дать всем высшее образование. Все – и дядя Мора, и моя мама и, уже после войны, дядя Лёня – стали врачами. Война всех разбросала. Мама училась на 3-м курсе, и эвакуировали её вместе с Крымским мединститутом в Среднюю Азию (если точно – в Самарканд, там она окончила мединститут и в 44-45 годах работала врачом на строительстве Фархадской ГЭС в Беговатском р-не Сырдарьинской области Узбекистана). Дядю Лёню призвали в армию и послали сначала в Якутию (на тамошние морозы), где учили на военного связиста, а, кроме того (он рассказывал мне) учили военному рукопашному бою, в котором нет запрещённых приёмов. После окончания учёбы он воевал самым реальным образом, был награждён орденом Красной звезды, был трижды ранен – последний раз, в 1944-м году – в живот, – так что ему вырезали треть кишечника и после госпиталя комиссовали из армии. Дядя Мора буквально в день начала войны получил диплом об окончании Крымского мединститута (тётя Нина окончила его же на год раньше). Дядю Мору немедленно призвали в армию, и он служил в звании офицера военврачом. Когда, в 1941-м году, Красная армия отступала, его часть в какой-то момент оказалась недалеко от Крыма (где-то в Херсоне или в Николаеве). Если б дедушка и бабушка остались под немцами, то погибли бы неминуемо, как все евреи, которые остались в оккупации. Дядя Мора упросил начальство дать ему 3-дневный отпуск, и успел привезти родителям в Евпаторию воинский литер (документ) на право эвакуации (видно, как родителям военнослужащего). Он настоял, чтобы дедушка и бабушка немедленно всё бросали и спасались – литер был, по-моему, до Самарканда. Эвакуация в условиях войны, естественно, выполнялась не спецрейсом, – а была брошена исключительно на инициативу самих эвакуирующихся. При этом немец, по словам дедушки, шёл по пятам. Стоило на какой-то станции замешкаться, не попасть на поезд, и немец мог “отрезать дорогу”, − так рассказывал дедушка. Случались эпизоды, когда, чтобы попасть на поезд, он расплачивался с проводником, или с начальником станции, или с машинистом царской чеканки золотыми монетами (золото не было подвержено инфляции и в войну). Так и удалось сохранить жизнь. За несколько месяцев они добрались до Самарканда. Подробностей о годах эвакуации я не знаю. Но, по-видимому, именно там дедушка приохотился носить цветастые тюбетейки. Не было принято в то время, чтобы набожный еврей ходил без головного убора. Тюбетейка в этой роли дедушке полюбилась. Потому и в Симферополе после войны он шил себе, а также и мне, узбекского кроя тюбетейки из ковровой ткани.
Весной 1944-го года освободили Крым, и вскоре дедушка с бабушкой вернулись из эвакуации в Евпаторию. Мама же моя продолжала работать ещё на строительстве Фархадской ГЭС. Когда родители её вернулись в Евпаторию, они маме сообщили об этом, а также о том, что дядя Лёня ранен, находится в госпитале. Сохранилась мамина ответная открытка родителям в Евпаторию, датированная 14 января 1945 г.
Вот она:
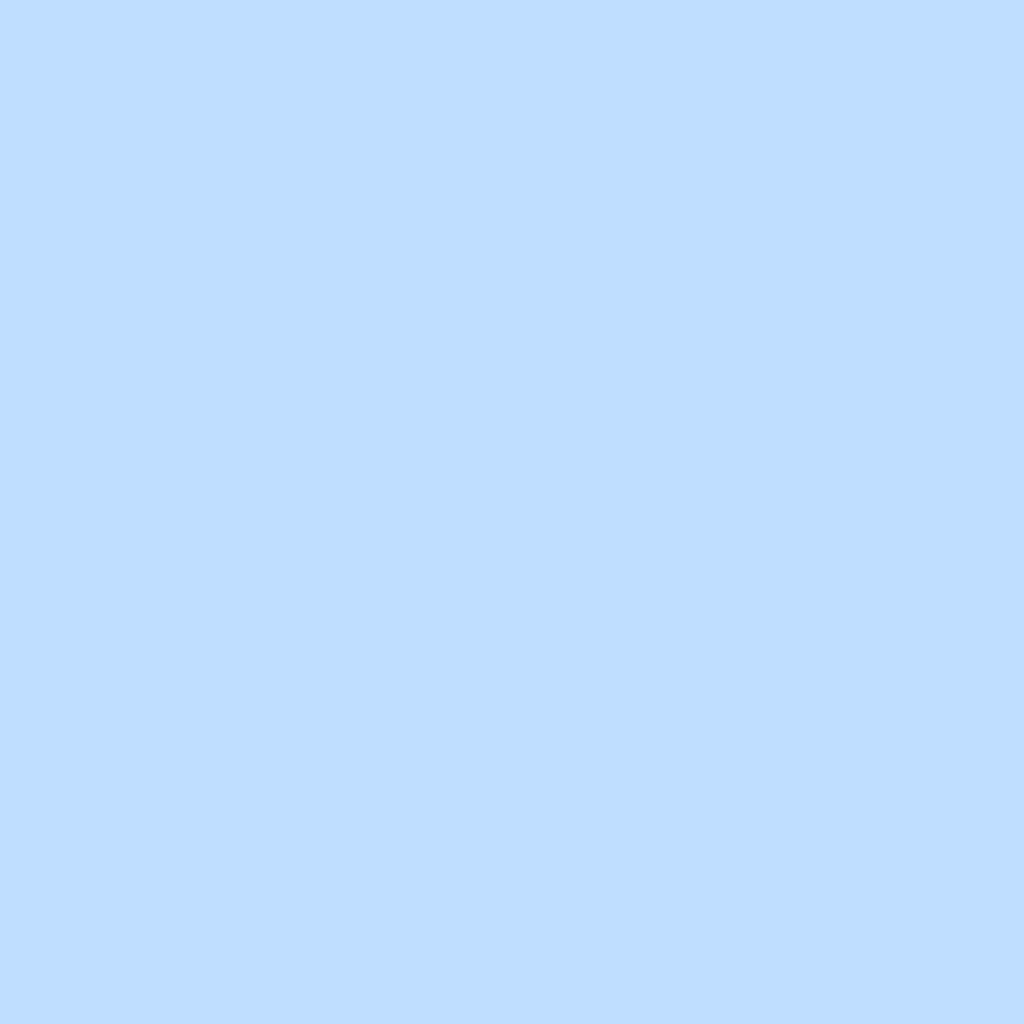
14/ I Фархадская ГЭС
Дорогие мои мамочка и папочка!
Наконец-то я получила первое письмо из родного города, из родного дома. Радости моей не было предела, особенно, когда я узнала, что от Ленечки было письмо с 10/XII. О ранении его я узнала давно, но не хотела вас расстраивать (думала, вы не знаете об этом).
Да, много я пережила и немало переживаю сейчас. Хочу знать, как он себя чувствует сейчас. Вчера приехал на ГЭС д-р Вольфсон. Его приезд совпал с днём моего рождения и с получением вашего письма. Я отпраздновала все вместе, пили за Ленечкино здоровье, за скорейшее его выздоровление и возвращение на родину.
У меня все по-прежнему. На-днях буду делать доклад о воен. легких на научной конференции. Работа очень интересная. Я рада, что живете в тепле. Почему не пишете, прибыл ли багаж, все ли вещи вы довезли? Как жизнь? Кк встретили соседи? Целую кр.кр.
В/ дочь
Только что получила сразу 4 письма. 2000р. получила
После конца войны, в 1945-м году, мама вернулась в Крым. Здесь она задумывалась, конечно, о том, чтобы выйти замуж. Известно, что после войны мужчины были в цене. Найти работу тоже было непросто. Первые полгода мама работала в Симферополе, на станции переливания крови без оформления и, пожалуй, без зарплаты, – просто, в надежде, что откроется какая-нибудь штатная вакансия. В это время она и познакомилась с моим папой, который тогда тоже вернулся с войны. Стрелять ему во время войны, правда, особенно не удалось, так как находился он в ведении министерства связи – сначала на радиостанции в Уфе, а потом – на Кавказе, где готовил связистов для Крымского штаба партизанского движения (потому его и включили со временем в ветераны крымского партизанского движения и даже наградили нагрудным знаком “Крымский партизан”)… Но это было после. А тогда папа работал инженером на симферопольской вещательной радиостанции. Однажды он провожал маму с какой-то вечеринки, и на улице к ним пристали гоп-стопники, которые “раздели” папу (не глядя на зиму и мороз). Мама говорила, что до этого она ещё сомневалась, но вследствие такого драматического случая, решилась-таки выйти за него замуж. Папа и мама в связи с этим упоминали всегда какие-то “чулоки-брелоки” (возможно, грабители именно с этого и начали разговор).
Меня мама родила в 1947-м году в Евпатории. Папа, конечно, в это время приехал в Евпаторию, и, когда я родился, бабушка вывела его из прострации житейским советом скорей бежать на базар за курицей, – она сварит бульон, и папа отнесёт маме его в роддом.
Первый год после моего рождения мама провела в Евпатории, а, потом переехала вновь к папе, в Симферополь. Жили они в той самой квартире 44, по ул.Жуковского, 24. В ней жили ещё папин двоюродный брат Ося-художник (уехавший году в 1951-м в Москву) и папина двоюродная сестра Ида с мужем Аркадием Ставропольским (обладателем редкого баса, который пел в ансамбле песни и пляски Черноморского флота). Так что после войны жили хоть и тесно, зато весело. Все были друг с другом в самой нежной дружбе.
Ида и Аркадий прожили в этой квартире год и перебазировались в Севастополь.
Дядя Ося жил в отдельной комнате, сплошь увешанной репродукциями великих мастеров и своими собственными работами (некоторые маслом на больших холстах – метра 2 на 2,5). Такие крупные вещи были, как правило, заказные, так что и содержание их соответствовало духу времени – много работ было на военные темы, а один холст был про Ильича: как он, в скромной кепке и сапогах едет в общем вагоне, беседуя с революционными рабочими, солдатами и матросами. На меня, малолетнего, дядя тратил не слишком много времени, но, всё же, предлагал иногда порисовать что-нибудь карандашом.
Дедушка с бабушкой считали невозможным жить вдали от дочери, и вскоре поменяли евпаторийский дом на худую и сырую квартирку без удобств в Симферополе. По сравнению с Евпаторией, в Симферополе, к тому же, ещё и моря не было. Далеко не все улицы были вымощены булыжником, а остальные, не мощёные, способствовали тому, что над городом носились тучи пыли. По этому поводу дедушка называл Симферополь “Симферопыль”. И, всё-таки, не было у меня чувства, чтобы дедушка с бабушкой особо горевали – пребывание вблизи от дочки и воспитание внука компенсировало в их глазах все житейские неурядицы.
Я думаю, моя мамочка думала и об этом, когда в последний год своей жизни, не помня уже почти ничего и страдая от душевного безразличия своей же медицинской братии, повторяла (будто бы, без всякой связи): “Как меня любил мой папочка!”
Дядя Лёня после войны поступил учиться в Крымский мединститут. И я помнил его молодым холостым студентом. Со мной он в ту пору был строг, поскольку, проходил всего лишь начальный практикум по воспитанию детей. Однажды в этой связи я изрёк крылатую фразу: “Маленьких детей нельзя бить – они сами будут понимать!”. Когда дядя Лёня женился (в 1953-м году) и у него появились свои дети, с ними он был много нежней, нежели со мной. Видно, педагогическая практика не прошла даром.
(продолжение следует)
2011-01-19
- Рождение мамы – Липовец
- Жизнь в Евпатории, война, эвакуация в Узбекистан, возвращение в Крым, моё рождение
- Мама – врач и хозяйка семейного очага
- Семейные торжества, грамзаписи, мамины кулинарные рецепты
- Атмосфера еврейской жизни в доме дедушки и бабушки
- Моё изнеженное воспитание. Закаливание, горы − наперекор маме
- Музыка в жизни мамы и нашей семьи
- Мамины аргументы в пользу существования Б-га
- Про пианино с канделябрами. Фото генерала Толбухина. Гонорар в “Гамбринусе”
- Музыка, танцы на домашних вечеринках, медицинские байки
- Швейная машина “Зингер”, ящики с инструментами
- Кухонная техника 50-х, 60-х. Печное отопление. Общая ванная
- Как мама опаздывала. Мамина переписка. Телефонная связь
- Участие мамы в лечении близких. О Войно-Ясенецком. Кончина дедушки
- Поездка с мамой в Ессентуки
- Как однажды ночные грабители узнали маму
- 10-летие супружества мамы и папы
- Оттепель. Переходящие вечеринки маминой врачебной компании
- Мамин отпуск в Малореченке. Мои побоища
- Приезды мамы в Евпаторию. Дедушка. Бабушка. Семьи маминых братьев
- Вечерняя школа. Экзамены в МГУ, в МЭИ. Жизнь у дяди Оси. Приезд мамы
- Учёба в Симферопольском филиале СПИ. Невроз
- МЭИ вторая попытка. Разведка: Одесса, Ленинград. Поступление в ЛИТМО
- Начало учёбы в ЛИТМО. Переход в группу математиков. Провал в середине 4 курса
- Трио негритянской песни. Володя Выборный. Московские экскурсантки
- Визит мамы. Общежитский быт. Приезды Саши, дяди Лёни
- Национальный балет Сенегала, Дин Рид, еврейский театр, элитарное кино, клуб у Милы Шварц, “Одноэтажная Америка”
- Моя математическая группа
- Преподаватели – Кан, Рамм, Цейтлин, Крыжановский, военная кафедра
- БДТ, Александровский парк – театр Ленинского комсомола, кт “Великан”, мудрые старички
- Коля Краснянский. Давид Ойстрах. Опера. Филармония
- Публичка, достопримечательности, Васильевский остров, симферопольские друзья, Эрмитаж, Русский музей
- Пути от Финляндского вокзала, норма ГТО по лыжному кроссу, ленинградская милиция
- Поездки в Таллинн и Ригу, Вильнюс, Могилёв, Киев, Полтаву, Москву
- Серебряная свадьба родителей
- Выбор жизненного пути
- Мамины кандидатуры на роль моих невест
- Женитьба Саши
- Отношение мамы к народной медицине. Лекция Амосова. Йог
- Про Лёву Горбача и его жену Фаю
- О маминых “здоровых” привычках и “забыванах”
- Мама и близкие люди
- О бабушке
- О тёте Сарре и Мише
- Про дядю Яшу Горбача
- Про Лёню Горбача
- Про Алика Горбача
- Про Аркадия Горбача
- Мамина профессиональная карьера. Знаменитые люди в ней
- Что и как мама читала
- Идея брать маму в походы